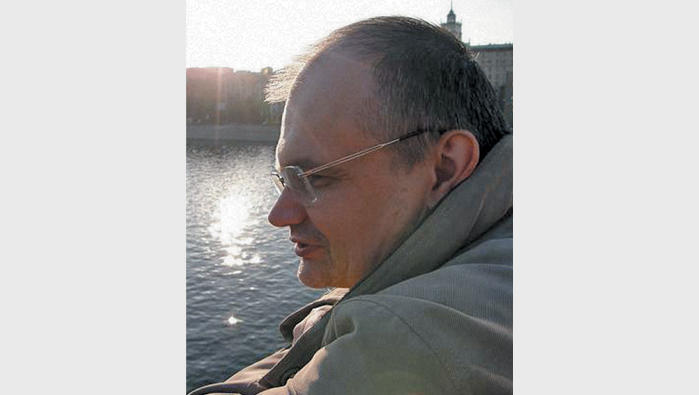Недоехавшее колесо. Окончание
Недоехавшее колесо
(окончание)
- Снова о композиции и методе
Если в «Августе 14-го» и в «Октябре 1916» повествование распадается на несколько блоков, то в «Марте 1917» текст превращается в мелко нарубленный салат. Автор, видимо, таким образом хотел передать естественный ход событий, «реку жизни», прорвавшую плотину и увлекшую в свою стремнину человеческие судьбы. Но это оправдано на техническом уровне подборки газетных вырезок. Мелко порубленные части художественного повествования теряются, читатель быстро начинает путаться в деталях (даже я, читатель терпеливый и опытный). Совершенно теряются перемешанные линии восставших полков, о которых рассказывается в романе. Читающим эти солдаты и офицеры незнакомы, и голова идёт кругом. Быстро забывается, что этот персонаж из Московского полка, а этот из Волынского; что восемьдесят страниц назад этот офицер укрылся от преследования в госпитале, а другой, наоборот, пошёл в Таврический дворец и предложил свои услуги революции. Это верно даже для известных персонажей. Сам Солженицын находится внутри материала, и для него Михаил Владимирович - это Родзянко, а Алексей Васильевич - Пошехонов. Но даже для образованного человека Михаил Владимирович и Алексей Владимирович - это не Владимир Ильич или, на худой конец, Александр Фёдорович. Поэтому когда очередная главка начинается с «Михаил Владимирович проснулся в ужасном расположении духа», читатель, читая дальше, ожидает спасительной зацепки, которая поможет ему идентифицировать полуанонимного персонажа. Учитывая, что главки маленькие, в две странички, подобной зацепки может и не быть.
Здесь следует сказать об отсутствии в десятитомном «Красном колесе» аппарата: именного и тематического указателя и т.д., что совсем не нужно для книги художественной, но необходимо для исторического исследования и совершенно необходимо для художественного «потока жизни».
Разумеется, это не частный просчёт, так как Солженицын профессиональный литератор и должен такие вещи понимать. Дело в просчёте замысла, «Толстовстве» автора (несмотря на декларацию обратного), на фоне отсутствия ясного понимания СМЫСЛА (а не ХОДА) происходящего. Концепция самобеглой «стихийности» крошит персонажей в ноль и сводит к нулю самого автора. Как реалист, Солженицын прекрасно чувствует несогласованность и дробность воспоминаний о революции и сообщений революционной прессы, но он пытается её снять не путём создания общей концепции, базирующейся на скелете фактов, а на «улопачивании» путём показа внутреннего мира участников событий.
Есть текст совершенно разных и несогласованных друг с другом воспоминаний Милюкова и Гиммера-Суханова об одном и том же событии. Солженицын показывает факт в его субъективной оценке сначала персонажа-Милюкова, а в следующей главе – персонажа-Гиммера, отчего возникает живая ткань повествования, передача потока жизни. Однако «потока» на самом деле не получается, так как нет мощного голоса автора, который только и может быть объединяющим началом подобных импрессионистических впечатлений (в художественной ткани «Марта 17-го» - тысяч!). Это работает при сопоставлении атомарных фактов газетной хроники или при подборке идеологических клише. Но подобная «раздробь» при описании развития сюжетной линии делает повествование необязательным и ненужным. Это постмодернизм.
Если изложение восприятия факта Милюковым и Гиммером совершенно импрессионистично и мотивируется чем угодно, но только не реальным ходом событий, то этого факта и не было. Оно не важно. Никаких «переговоров» не было, и быть не могло. Даже при наличии протоколов. Не в этом центр. Значит, надо фокусировать взгляд на чём-то другом, ВАЖНОМ. Вот это отсутствие фокусировки, расслабленное «толстовство», неспособное отличить важные события от событий второстепенных, а события второстепенные от событий фиктивных, «Март 17-го» губит, не даёт ему развернуться в «Сверхгулаг».
В прекрасно написанных сценах речи Керенского в Петроградском Совете автор наглядно демонстрирует бессилие подобного «импрессиона». Речь показывается глазами озлобленных исполкомовцев и солдат. Но объективно это говорит о том, что никакого «Петроградского Совета» нет, это «афраппирование», как он сам пишет. И тогда авторская концепция Керенского, на удивление советская, расползается на ходу («истеричка», «летит», «дирижабль» и т.д.). То есть это не факт. А что же факт? Для политика и чиновника факт - это продвижение по бюрократической лестнице. И тут поведение Керенского отличается железной последовательностью и внутренним смыслом. Вот этого скелета фактов: железных хронологических таблиц и послужных списков у Солженицына нет, и это превращает его замах в кисельный импрессионизм компиляции. Художественные характеры исчезли, а неумолимой логики исторического процесса – не появилось.
И то, и другое было в «Архипелаге». Недоступность советских архивов обыгрывалась как сокрытие, разоблачаемое личным участием автора в описываемых событиях. Возникало ощущение внутреннего знания автора и подлинности авторских текстов. Этого внутреннего знания и подлинности в «Красном колесе» нет. Оно есть только там, где напрямую соприкасается с советским опытом автора (ложь прессы, травля беззащитных людей, хамство черни).
К «Марту 1917-го» личная линия повествования из-за несоразмерности описываемым событиям вырождается в провал. Ход мысли автора теряется и непонятен читателю. Солженицын всё время пишет про какую-то «Ликоню», которая «дышит туманами». А это, оказывается, какая-то родственница Солженицына, знакомая ему по семейным преданиям.
На этом этапе происходит срыв идеи «мелкого шрифта», которым Солженицин выделял нон-фикшен. Предполагалось, что многие читатели могут пропускать мелкий шрифт как неинтересный, но 80% читабельного текста как раз приходилось на нон-фикшен, что вызывало насмешки читателей. Очень многие, наоборот, стремились пропускать главы, напечатанные крупным шрифтом. Крохотные главки «Марта 1917-го» произвольно печатаются двумя шрифтами, вперемешку. На самом деле, это важное нововведение, свидетельствующее об отказе автора от ХУДОЖЕСТВЕННОГО замысла своей эпопеи.
- Дыры на широком полотне
«Март 1917» по объёму больше, чем все остальные книги «Колеса» вместе взятые, и уже этим претендует на «широкое полотно». Но широкого полотна у автора явно не получилось.
Там нет русской интеллектуальной элиты. Бегло описаны Струве, и ещё Гиппиус, как третьестепенный безымянный персонаж. Нет даже Горького.
В романе нет предпринимателей. Только пародийный образ «купца», да две-три фигуры, поданные как политики (Терещенко, Коновалов). Нет типичных представителей иностранного капитала, живших в России (их было очень много).
Нет РУКОВОДИТЕЛЕЙ прессы (Проппер и т.д.).
Нет правых (даже Маркову Второму посвящен один абзац и приведено несколько цитат из его выступлений, а это фигура в тот период ключевая).
Национальная тема, в общем основная в 1917 году, практически не затронута: поляки, армяне, грузины, тюркофилы, украинцы, финны, евреи. Немного говорится о евреях, но косвенно, например, в качестве типичных представителей «московского либерализма». Как следствие, немного о финнах. Остальных групп нет.
Кроме того, нет отношения к революции со стороны других государств. Немного только говорится о послах, о «деле Парвуса», да приводятся подборки материалов в газетах.
Эти провалы зияющие, и не заполнить их ничем. Так что «полотно» несшито.
На этом фоне бросается в глаза фигура Гиммера, которому выделяется непропорционально много места. Думаю, дело в том, что он оставил обширные мемуары об описываемых событиях.
- Между Россией и Советским Союзом
Вывод, который Солженицын увидел, но не сделал, ибо испугался, так как это означало бы окончательное перерождение Солженицына, превращение его из писателя АНТИсоветского в писателя НЕсоветского, т.е. русского, - это вывод о том, что Россия и Советский Союз – разные государства. У них нет общей истории, а только общая причинно-следственная связь.
До сих пор он упорно цепляется за внутренне порочный советский мир, восхваляет писателей-деревенщиков. Бездарного Распутина, серого Белова, угрюмого Астафьева. Между тем, их даже нельзя считать советскими национальными пропагандистами (по сравнению с окраинами и украинами они совершенно оттёрты и забыты). Русских деревенщиков забил на корню даже Айтматов, вышедший на международную арену при Горбачёве. При дальнейшем развитии СССР высшую, общесоветскую интеллигенцию образовали бы именно Айтматовы, а не Астафьевы. Они были нужны как оправдание официального сепаратизма окраин: «Оставьте киргизов и эстонцев в покое, у вас же тоже есть».
Это позволяет Солженицыну писать «как НАМ обустроить Россию», а не как «ВАМ обустроить СССР».
Сейчас ясно, что СССР превращается семимильными шагами, и уже превратился, вовсе не в новую великую демократию, вроде США, а в конгломерат крупных, средних и мелких государств, новую «Латинскую Америку», с Бразилией – РФ, Мексикой и Аргентиной – Украиной и Казахстаном, Уругваем - Эстонией, Никарагуа, Гондурасом, Парагваем – Азербайджаном, Грузией, Туркменией. Этот конгломерат будет существовать столетиями, с переменным успехом развиваться экономически, создавать финансовые пирамиды, объявлять государственные банкротства, удивлять мир опереточными войнами и госпереворотами. Возможно, создавать нечто заслуживающее внимания в области искусства и литературы. Ещё – служить второстепенным поставщиком мозгов для крупных научных центров. Но, в общем-то... - НИКОГДА. Это ВТОРОЙ СОРТ. Не получилось из СССР сомасштабного эквивалента России. Да даже если бы и получилось, всё равно это было бы ДРУГОЕ государство. С другой историей, другой культурой. Другое даже в смысле этническом, ибо элита США в той же мере не есть прямое развитие элиты Англии, как Мексика не есть прямое развитие элиты Испании. И народ США и Мексики этнически больше чем на 50% другой по сравнению с бывшими метрополиями.
Для Солженицына Россия продолжается, и Ельцин, и Путин - это пусть плохое и убогое, но органичное продолжение Романовых и Столыпиных. А сам он, со всеми приличествующими оговорками, как ни крути, продолжение Достоевского и Толстого.
В основе солженицыновской эпопеи лежит мифология «народа». Но сам по себе любой народ вовсе не носитель культурных ценностей. Это среда, материал, материя, но не мысль и не культура нации. Простонородные кокошники – это устаревшее украшение византийской знати, а ливреи лакеев – вышедшая из моды одежда верхнего класса. Вдвойне это верно для народа крестьянской страны. Сентименталистская стилизация «бедный мужичок» («бедная лошадка») по своему происхождению тоже не русская, и, надо сказать, весьма условная и бездушная. Но и это не главное. Тем более в РОССИИ. Вся русская история говорит об изначальной некультурности народной толщи. При всей первобытности и рабстве средневекового романского крестьянина он жил на некогда культурной территории и был носителем ушедшей античной культуры. Германские крестьяне, по крайней мере, соприкасались с греко-римскими территориями. Даже такой культурной традиции в России не было. На её территории не только не было культурных государств, но не было и государств варварских. Более того, она даже никогда не была приграничной областью культурного или ХОТЯ БЫ ВАРВАРСКОГО мира. Это ноль. Гигантская унылая равнина с суровым климатом и диким населением,
Солженицын видит, но не хочет понять, что «народоправство» 1917 года - это взбунтовавшаяся колония, громящая белые латифундии и поджигающая белые города. Это вовсе не буржуазно-демократическая революция, и уж тем более не фантастический «социализм». Это первая антиколониальная революция 20 века. И если искать её прообраз, то не во Франции конца 18 века, а в Латинской Америке начала 19-го. С той только разницей, что там удалось удержать власть местной аристократии, и «гаитянский вариант» Туссена Лувертюра, и парагвайский – Родригеса Франсиа остались эксцессами. В России Гаити и Парагвай победили.
В своё время староэмигранты заклеймили новоэмигранта Синявского, обозвав его «Прогулки с Пушкиным», «Прогулками хама с Пушкиным». Но Синявский вовсе не хам. Это мальчишка. Представитель молодой советской культуры, для которой Пушкин чужой. Советские Пушкина никогда не понимали, и не поймут. Понять можно изнутри, это поэт национальный, непереводимый на другие языки. В том числе на языки других культур.
Может быть, через язык, через филологию возможно культурное проникновение и возвращение в Россию. Но это тема отдельного разговора и тема другого времени.
Современная РФ живет ВМЕСТО погибшей русской метрополии, подобно тому, как Османская империя и современная Турция живут ВМЕСТО Византии. Вероятно то, что произошло с Россией 80 лет назад - это то, что произошло бы с Англией, будь у нее общая граница с Индией.
Дореволюционная Россия - это Метрополия, которой уже нет. Она ушла Атлантидой на дно. «Господа в Чёрном море». Но культурно, со дна, Россия мстит. Именно там, в придонном зазеркалье, она живёт градом Китежем, там ключ к этому миру. Камертон, без которого всё расстраивается. Поэтому, несмотря ни на что, перед каждым русским есть нравственный выбор. И любой образованный культурный человек этого мира из этого мира уходит. Он не воспроизводится. До сих пор во главе постСССР люди полуобразованные, так как образованные выпадают из этой культуры. Они могли бы просто уехать в бывшую метрополию. Но метрополии нет, и они начинают подрывать этот мир изнутри. Мир неудачников.
Не «Россия, которую мы потеряли», а «Россия, которую ВЫ потеряли». Потеряли – и будьте прокляты. Не получится у ВАС ничего и никогда.
- В колесе языка
Солженицын упрямо, по-большевистски ломает язык. «Ничего, берём!» (фраза гулаговских каналоармейцев). Через «не хочу». Язык русский неправильный, будем говорить иначе. Язык, однако, победить трудно. После штурма унд дранга Карамзина, придумавшего сотни русских слов и понятий, Достоевский - из сегодняшнего времени едва ли не карамзинский современник, - смиренно радовался сомнительному авторству двух неологизмов. Солженицын еще через сто лет ломает структуру, изменяет лексику, меняет сам ритм русской речи. «Берём». Но проклятущий язык выгибается красным колесом, и получается смешно.
Что такое стиль? Стиль - это ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ почерк, то есть, в конечном счёте, ошибка. Сознательная имитация стиля есть избыточность подражания, ненужная для литературного процесса. Как правило, собственный стиль мешает и не случайно служит источником насмешек пародистов.
Также упрямо, «через не хочу», Солженицын ломает русскую историю и сам строй русской жизни. Ни в одной стране мира нет такого разительного контраста между жизнью столичной и жизнью провинциальной. И Солженицын прибывает в Россию через Владивосток, наперекосяк. И из провинции торжественно въезжает в первопрестольную Москву... Кто же его встретил во Владивостоке-то? Престарелые стукачи да провинциальные фрики. Потом «провинциалов» подкинули Солженицыну для его телепередач. Раздались первые смешки.
Да. Культурная жизнь России страшно централизована. Так было, так будет. Содержание этой жизни можно изменить. Но никому ещё не удалось изменить форму. Форма первична. И акула, и дельфин – внешне один вид животных. Потому что форму здесь диктует среда.
Можно сказать, что сама ломка через колено - черта русская. Но то, что получилось у Петра I, у советских не получится никогда. Все советские усилия отмирают как короста. Потому что активного начала этого мира, «метрополии» - нет. В нём ничего изменить нельзя, т.к. невозможно внешнее воление. То есть только и возможно воление внешнее, чужое. Без метрополии Россия всегда будет метафизической колонией. Как «независимая» Латинская Америка всегда была метафизической колонией Англии, потом – США.
- И снова о композиции, и снова о порочном методе
Есть Иван Петров, муж и отец, есть Елена Петрова, есть маленький Петя, их сын, но нет понимания того, что их объединяет в семью. И как не силится Солженицын объединить их в единую ткань повествования – ничего не получается. Слова Солженицына о «горизонтальной и вертикальной связке» персонажей в «Марте 1917-го» доказывают, что у него нет понимания главного – атмосферы и духа, а следовательно - смысла происходящих событий. Герои романа остаются замкнутыми в своих воспоминаниях монадами, с глухим стуком биллиардных шаров, время от времени механически «взаимодействующими» друг с другом.
Уже во второй части, несмотря на то, что главы стали несколько крупнее и общее их количество сократилось, основные темы стали более переплетены (а в следующей части - раскрошены в салат). Как это ни парадоксально, подобная переплетённость лишь подчеркнула механичность и несоединимость разных частей. Обозначенный как лирический герой, Лаженицын во второй части превращается в альтер эго Воротынцева первого узла – наблюдателя фронтовой жизни. Эта трансформация неестественна. Связь между Пруссией и Столыпиным обеспечивается разбиением воротынских глав (всего 430 страниц) на две части: «заговорщицкую» и «женский роман», позволяющий дать типы московских либералов. Связь такая: Воротынцев изменяет жене, жену успокаивает подруга, подруга оказывается «представительницей московского еврейства». Зачем нужны такие «сюжетные» ходы? Не проще ли, И ЛОГИЧНЕЕ, просто рассказать об этом во вставной главке, оставив за кадром ненужные связки.
При этом у Солженицына нет никакой логики развития текста, никакого реального сюжета. В первой части динамика была. В «прусской» части она задавалась неумолимым ходом развития военной операции (с точки зрения рассказчика, заранее обречённой), в «столыпинской» части – сюжетным штампом «ЖЗЛ». В «Октябре 16-го» никакой сюжетной линии нет, и поэтому читать его неинтересно. Именно здесь теряется читательский интерес, без чего сама форма художественного произведения становится неоправданной. В определенном смысле, «Октябрь 16-го» читать интересно, местами очень, но это интерес не к художественному тексту, а к тексту научному, документу эпохи, тексту, вышедшему из-под пера знаменитого Солженицына. А вот что будет с главными героями, как повернётся повествование – это неинтересно. Здесь, в «Октябре 16-го», Солженицын потерпел поражение как писатель. Это его неудачное художественное произведение. В отличие от «Одного Дня», от «Ракового корпуса», «Круга первого», ну, и конечно «Архипелага». Хотя интерес «Архипелага» не художественного, а другого свойства, но отчасти и художественного - из-за судьбы автора («поединок с властью») и такого же поединка читателя тоталитарного общества (или читателя свободного мира, находящегося вовне и ощущающего уютность своего существования). Но тоталитаризма сейчас нет, и сам «Октябрь 16-го» не заострён против тоталитаризма. Это есть в «Ленин в Цюрихе», и только эта часть, стоящая особняком, имеет отдельную динамику, сильно потерявшую после включения в общий текст романа. Интересно, что если «Август 14-го» ввёл в постсоветский оборот Столыпина, то «Октябрь 16-го» - Ленина («Ленин - гриб»). Пожалуй, можно сказать, что «Март 1917» ввёл образ царя (сильно отличающийся от образа в начале эпопеи, но от этого не ставшего верным).
- Читать или не читать?
Последний вопрос: читать или не читать «Красное колесо» (или другая формулировка этого же вопроса: что от этой книги останется в будущем?).
Читать - столыпинские главы «В августе 14-го» и «Ленин в Цюрихе» (отдельное издание ленинских глав). Самостоятельное значение имеет подборка газетных цитат в «Марте 17-го». Но это пока не появилось основательных компиляций и отдельных работ о пореволюционной прессе. Итак, Цюрих и Столыпин (максимум 10% объёма). Но читать их надо как элемент культуры СОВЕТСКОЙ. Без которого в дальнейшей эволюции советского мира что-то (и что-то важное) не будет понятно. Например, развитие мифа Ленина, изображаемого ли американским чокнутым профессором, то ли инопланетным «чужим», и развитие советского бюрократа, в своих безумных фантазиях мнящего себя Столыпиным.
- Постскриптум через двадцать лет
В текст, приведенный выше, не вошел подробный разбор глав, многочисленные цитаты, иллюстрирующие выводы, большая глава с таблицами, анализирующими строение книги.
Я мало что говорю об «Апреле 1917-го», последнем романе тетралогии. У меня он слился с третьей частью – честно говоря, я и сейчас не вижу между ними различия, хотя автор их разделяет даже в разные циклы.
Что мне сказать из моего 2021 года, через два десятилетия после написанного и через 12 лет после смерти замечательного человека, умного, талантливого, очень упорного и трудолюбивого, но также недостаточно образованного, излишне заносчивого и, главное, не понимающего ни того, что произошло с Россией, ни тем более того, как всем нам выбираться из-под обломков страшной катастрофы 20 века.
Вероятно, Солженицын должен был написать другую, правильную книгу. Без нелепого опереточного названия («Красное колесо» - это ведь «Мулен руж»), без графоманского объёма в 8000 страниц (автор сожалел, что не успел написать вдвое больше), без шарлатанского всезнайства и нравоучительства сельского учителя.
Но ведь такую книгу не смог бы написать никто. Солженицын, по крайней мере, попытался. И у него вроде бы даже получилось - «терпенье и труд все перетрут». Тиражи, слава, встречи с президентами. Но всё не то. Настолько не то, что молодое поколение наверно думает: а был ли такой человек вообще? Может, это все «лунная эпопея», бесследно затерявшаяся в архивах НАСА. «Документация уничтожена за ненадобностью». Фейк.
Это очень трагичная судьба для писателя. Хуже, чем годы, проведенные на фронте, в тюрьмах и в лагерях. Но всё-таки… Всё-таки бедный смешной человек в нелепом френче, с приклеенной бородой и выдуманной семьей осмелился сказать что-то поперёк государству – самому страшному и таинственному государству планеты, управляемому невидимой тоталитарной сектой. Подлинные хозяева нашей страны его, конечно, использовали и вышвырнули как отработанный шлак. Но всё-таки…
Как-то я сидел в аудитории университета и слушал лекцию преподавателя. Это был умный и хороший человек, он что-то пытался сказать студентам. Мне его сначала было жалко, я думал, зачем он мечет бисер перед свиньями и раскрывает свою душу. Но вдруг я поймал себя на мысли, что, может быть, где-то в аудитории сидит кто-то такой же, как я, и думает так же. И тогда я подумал, что может быть все не зря, и преподаватель знает, что делает. В общем, чтобы поддерживать огонь разума, нужно не так уж много людей. И в каждой аудитории всегда сидит хотя бы один студент, способный взять эстафету.
От Солженицына, при всей его неудаче, многое останется. Останется боль за родину. Попытка исправить ошибку. И огромный набор имён, событий, фактов, который он собрал в безумный гербарий «Колеса». Но ведь собрал же. И у меня, прочитавшего на заре Интернета эти 8000 страниц – вместе с «Минувшим» и 22 томами «Архива русской революции» - многое прояснилось в голове, пускай в результате отталкивания от авторской концепции. И, конечно, не у одного меня, а у десятков, сотен, тысяч людей, получивших в нравоучительной эпопее Солженицына информацию к размышлению.
А что касается нравоучений… Пройдёт время, и «Как нам обустроить Россию» будет наконец прочитана, и вокруг этого манифеста будет создана партия. Может быть, это будет еще не скоро. Но появились книги по русской истории, их много. Издано огромное количество документов. Наступила эпоха Интернета. Ясно, что «Архипелаг» построен на неполной информации, догадках, слухах и байках. Но также ясно, что главное сказано верно. И «Колесо», при его литературной графомании и технологии «всё из печи на стол мечи», выглядит уже совсем иначе. Видно где байки и легенды «распутиниады» и николаевских «дневников», а где факты и документальная летопись.
Парадоксальным образом, не замечая культурного разрыва между Россией и РФ, Александр Исаевич сделал очень много для того, чтобы русская история вытеснила историю советскую, и РФ снова стала Россией. Жизнь пошла по другому руслу. Солженицын почти забыт. Но и у России, и у РсФср есть одно общее свойство – обе страны являются странами «писательскими». Что написано пером, то не вырубишь топором, и рукописи не горят.